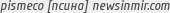"Силиконовой долины в России не будет никогда"

Основатель Acronis и Parallels Сергей Белоусов о том, чем Россия привлекательна для технологического бизнеса и о роли государства в его развитии
По мнению Сергея Белоусова, понятия «информационные технологии» и «интернет» устарели, и сегодня любой бизнес — вплоть до производства холодильников — связан с интернетом. Россия, считает Белоусов, очень привлекательна для технологического бизнеса. Причем государство может и должно оказывать частным компаниям посильную помощь — в том, что касается поддержки фундаментальной науки, повышения качества образования и повышения интереса к профессиям инженера и ученого. Как уверяет Белоусов, поиск новых знаний и превращение их в технологии — единственное, что может спасти человечество от борьбы за ограниченные ресурсы Земли.
— Сергей, расскажите, в какой момент информационные технологии стали для вас работой?
— Знаете, они никогда для меня не становились работой, я просто учился в Физтехе, и в какой-то момент решил заниматься бизнесом. Я никогда не относился к информационным технологиям как к какому-то отдельному бизнесу. Это просто некий бизнес, в котором нужны инженеры и, в какой-то степени, ученые, которые создают какие-то новые технологии. И в этом формате это не очень сложно делать это прибыльным. Информационные технологии — это сейчас очень условное название, оно устарело, так же как и интернет. Их больше нет. Все, что нас окружает — информационные технологии.
— Какие это были годы? Ведь предпринимательство не сразу появилось в нашей стране.
— У меня очень сложная предпринимательская судьба, я почему-то очень много делал разных проектов, первые — не очень осознанно и без всякого конкретного плана. Это был 1992 год. Потом 1993-1998 годы и так далее.
Сергей Белоусов
Один из первых технологических предпринимателей постсоветской России. В 1995 году, когда в рунете только появлялись первые сайты, Белоусов основал Rolsen Electronics, запустив с нуля полномасштабное производство аудио-, видео- и бытовой техники в России. В IT-индустрии он известен как создатель компаний Parallels, Acronis и фонда Runa Capital, который инвестирует в молодые IT- и интернет-стартапы.
— Какой из проектов стал по-настоящему приносить деньги?
— Они все приносили деньги, как это ни смешно.
Были проекты, которые приносили мало денег. Я думаю, что первые большие или средние по размеру бизнесы — это Parallels и Acronis. Они оформились где-то в 2003-2004 году. Но до этого тоже были бизнесы, которые были связаны с информационными технологиями: например компания, которая производила компьютеры, компания, которая производила телевизоры, а на самом деле она еще производила мониторы, корпуса для компьютеров, мобильные телефоны. Пейджерная компания, компания, которая продавала софт в Азии. Это не совсем технологии, но все они частично «информационны».
— Какой из проектов вы считаете более близким к интернету?
— Такого слова, как «интернет», больше нет. Не так давно думалось, что если вы производите холодильники, то вы не имеете отношения к интернету. На самом деле даже холодильники тоже скоро будут иметь отношение к интернету. И сервисы по обслуживанию холодильников или по довозу туда еды, или еще что-нибудь. Поэтому, в принципе, теперь все бизнесы имеют отношение к интернету. Из моих компаний, наверное, большее отношение имела Parallels. Но это 14 лет назад.
— А повлиял ли на ваши проекты экономический кризис 98-го?
— Повлиял, и очень положительным образом. Потому что при стабильной политической ситуации и при отсутствии каких-то катастрофических событий плохая ситуация в Российской экономике для экспортных бизнесов является благоприятной. Ведь основное, что мы делаем, это покупаем высококвалифицированную рабочую силу, которая в периоды бума экономики стоит дороже и ее сложнее найти. А в периоды упадка она намного дешевле.
Кризис 98-го года позволил создать в инвестиционно непривлекательной России такие проекты, как «Яндекс», Mail.ru, Acronis, Parallels, «Касперский». Потому что можно было нанимать высококвалифицированных специалистов: архитекторов, программистов и менеджеров по очень небольшим стоимостям. Соответственно, и начальные инвестиции были намного меньше.
— История какой российской интернет-компании кажется вам наиболее интересной? И показательной, может быть?
— Показательной? Я не знаю. Сложно так сказать.
— Скажем, мы много обсуждаем «Рамблер», где ушли основатели, и проект пошел вниз.
— Я не думаю, что в «Рамблере» единственная проблема была связана с уходом основателей. Вообще, это нормально — технологические проекты всегда находятся в постоянной борьбе за свое существование. И даже «Яндекс» продолжает оставаться в режиме стартапа: у них миллиардный оборот, но им все равно нужно постоянно что-то делать, чтобы сохранять свою позицию.
Наверное, проекты можно условно поделить на две категории: те, которые направлены на внутренний рынок и те, кто ориентирован на внешний. В первой категории есть две характерные судьбы: это Mail.ru и «Яндекс». Mail.ru — это компания, которая создана большим количеством поглощений, но очень эффективно проинтегрированных хорошей командой. А «Яндекс» — это компания, которая фактически не делала поглощений до недавнего времени, и создана с нуля.
Ну а среди международных —это, опять таки, «Касперский», Acronis, Parallels, ABBYY, которые производили здесь интернет-сервисы и программное обеспечение (сначала это были разные вещи, потом оно стало постепенно срастаться, и теперь это одно и то же). И у этих компаний какая-то своя судьба.
— Вы, теперь уже как инвестор, видите среди новых российских стартапов больше из какой категории? И есть ли проблема в дефиците проектов с глобальным позиционированием?
— Когда я был молодой, была такая группа «Алиса», которая пела такую песенку: «В Москве ленинградец, в Ленинграде москвич. Нашла коса на камень, стекло на кирпич». Так вот, я из Питера, учился в Москве, у меня сингапурское гражданство, и поэтому все мои бизнесы смотрят на весь мир.
Так получилось. Я не пытаюсь себе поставить какую-то заслугу. И большинство моих инвестиций — это компании, которые смотрят на весь мир. С моей точки зрения, если создавать бизнес с нуля, то создавать потенциального лидера в своей области. Нужно смотреть на весь мир. Но весь мир — это необязательно каждая страна в мире, есть какое-то ограниченное количество стран, где нужно присутствовать.
— Как предприниматель, в чем вы видите преимущества России?
— В России есть культура создания новых уникальных технологий большими командами. В России есть научная инженерная школа, которая производит высококачественные кадры. В России есть специфическая культура: когда-то может считаться, что она мешает, но когда-то она помогает. Если правильно ее понимать, то наверное, можно создавать очень сложные вещи.
В России достаточно негативное отношение и к успехам, и неуспехам. И это толкает людей на очень эффективную работу в состоянии кризиса. То есть при быстрых изменениях, при «военных» действиях, когда что-то очень быстро меняется, российская культура позволяет людям быстро мобилизоваться, сфокусироваться и очень быстро что-то делать. Но это точно так же плохо в стабильной ситуации, потому что уменьшает количество людей, готовых стать предпринимателями из-за боязни ошибиться. И из-за того, что они не видят, как сильно уважают тех, кто достиг успеха. Многие из предпринимателей, делавших свои стартапы в 2008-2009 годах, сейчас в большинстве своем уже не предприниматели, а работают наемными сотрудниками в каких-то компаниях.
— Как вы считаете, когда мы придем к модели Силиконовой долины, когда основная масса венчурных инвесторов — это успешные технологические предприниматели?
— Ну, во-первых, мы уже пришли к этой модели.
Саша Галицкий сделал Almaz Capital, я занимаюсь Runa Capital, точнее занимался, пока не вернулся в Acronis. Леонид Богуславский занимается RuNet.
Во-вторых, я думаю, что ни в коем случае не нужно пытаться повторять модель Силиконовой долины. Россия — совершенно другое место. Здесь другие условия, и здесь можно сделать лучше. Но для того, чтобы делать лучше, нужно сделать по-другому, а не пытаться повторять уже существующую модель. Такой модели здесь никогда не будет. Хотя бы даже потому, что нет никакой долины. Это не Сколково, потому что Сколково — это 100 гектаров земли. А в России есть стартапы и в Новосибирске, и в Перми, в Красноярске, Владивостоке, Петербурге, в Москве, в Казани. Это совсем другая экосистема.
— Эта экосистема формируется больше самой отраслью, или все-таки здесь важна роль государства?
— Государство всегда полезно. Некая роль государства должна быть. Но конечно же, это, в основном, предприниматели.
Государство, в первую очередь не должно мешать. Во вторую очередь должно пропагандировать технологическое и инновационное предпринимательство, работу инженером, работу ученым. В третью очередь должно помогать создавать научно-образовательную систему, которая производит кадры. Может быть, в четвертую очередь, раздавать гранты финансирования. В пятую очередь, давать какие-то налоговые льготы.
— Ну а если конкретные государственные инициативы — какие вы вспоминаете в этой части и как бы вы их оценили? Вы сказали про Сколково, может еще что-то?
— Сколково — это очень хорошая инициатива, мне показалось, она неплохо отработала, но в некоторый момент она свернула сначала в сторону политического проекта, а потом в сторону брошенного политического проекта. Она продолжает функционировать, но такой обратный «отворот» уменьшил возможную эффективность проекта в десять раз. Оно могло бы принести гораздо больше пользы. Наверное, это самая лучшая инициатива, о которой я знаю.
Есть много других, например, есть строительство Иннополиса в Татарстане, есть технопарки, которые были построены Минкомсвязью. Многие из них очень успешные. Вообще, любая помощь — это всегда хорошо. Подобного рода инициативы очень часто ругают, но мне кажется, это совершенно неоправданно.
— Как бы вы оценили путь, который проделал рынок разработки за последние 10 лет? Каким он был тогда, каким стал сейчас? Что изменилось, какие тренды повлияли на него сильнее всего?
— Думаю, что основное — это то, что сейчас в России есть компании, которые способны конкурировать с мировыми лидерами в своих сегментах и у них есть качественный инженерный процесс, который не основан на только том, что здесь можно нанимать rocket-scientists за 10 000 долларов в год. Инженеры стоят уже вполне конкурентно — дороже, чем во многих странах Европы. Но, тем не менее, есть хорошая инженерная культура, есть процесс, и поэтому компании могут эффективно конкурировать.
Я думаю, что десять лет назад и в «Яндексе», и в Acronis, и в Parallels все было устроено достаточно примитивно. Сейчас это профессиональные инженерные команды, которые работают ничуть не хуже, чем где-либо в другом месте. В каких-то областях лучше (например, в области системного программирования), а в каких-то областях, может быть, чуть хуже. Но в целом очень качественно.
— Как, по-вашему, будет выглядеть дальнейшее развитие интернета?
— Очевидной картины у меня нет, но понятно, что есть несколько трендов. Это большие данные, это «интернет всего», это роботы, которые нас будут окружать, это биткоин, torrent-like архитектуры. Последнее — это такой псевдоанонимный, надежный, не имеющий центрального органа метод авторизации человека или транзакции. Все говорят про биткоин, думают больше всего просто про цену биткойна, но речь идет не о цене биткоина, а о том, что можно делать транзакции без участия каких-то центральных органов управления, и абсолютно безопасно.
Еще то, что сейчас называется wearables — то, что можно на себя одевать. Все, что касается здоровья и долголетия, всегда будет базовым инстинктом человека. И если на человека навешать огромное количество датчиков, он сможет жить намного дольше. Средняя продолжительность жизни человека может увеличиться на 50 процентов за счет того, что его можно постоянно диагностировать. Все-таки большинство людей не доживает до 120 лет потому, что не знает, когда заболевает.
Мне хочется думать, что еще один из интересных трендов — это квантовые технологии, которые решают многие проблемы, которые есть в нашем мире — например проблему приватности. Совершенно очевидно, что приватность в современном IT-мире просто отсутствует. И это одна из глобальных проблем — мир до информационных технологий был достаточно приватным: вы могли куда-то уехать, не использовать кредитные карточки и вас можно было не знать, что вы делаете, и с кем вы разговариваете. Сейчас все, что касается большинства людей, находится где-то в цифровом формате. Если это прослушивать — можно знать про них абсолютно все и, в конечном счете, контролировать их жизнь. Это, наверное, нехорошо.
— Вот в этом образе будущего — есть ли российские стартапы?
— Конечно, есть. Но предсказывать сложно. Будущее любой страны касается не только предпринимателей, но еще и внутренней и внешней политической ситуации. И если внутренняя и внешняя политическая ситуация будет стабильной — то, конечно же, будет много технологических стартапов, в которых ядро разработки будет состоять из российских инженеров.
— Возросшая в последний год законодательная активность, по большей части запретительная, относительно интернета — это шаги в правильном направлении?
— Всегда есть страны, где все запрещено. И в этом смысле Россия далеко не впереди планеты всей — есть, например, Китай. Там все гораздо «более запрещено», и там существует интернет-рынок, существуют глобальные интернет-компании, хотя там нельзя зайти на Facebook, на YouTube и на кучу других сайтов. С другой стороны, мир большой, и поэтому в нем всегда все открыто в достаточной степени. Мне вообще кажется, что какая-то степень регулирования в интернете должна быть, но я не разбираюсь, где тут проходит граница. Думаю, что пока интернет — это очень маленькая часть жизни, его регулировать не нужно. Но как только он становится большим, отсутствие регулирования все-таки может привести к фантастическим злоупотреблениям.
— Каких законов и государственных инициатив не хватает вам как предпринимателю?
— Первое — это отсутствие четкого централизованного понимания со стороны государства, что наука, именно фундаментальная наука, это очень важно.
Очень важно получать Нобелевские премии и индекс цитируемости — его, все-таки, нет. Наука считается какой-то такой областью — вроде как будто бы это дорого и непонятно зачем. На самом деле, наука — это очень прибыльно для государства, и без науки невозможно делать технологии. А без технологий не бывает технологического бизнеса, но на самом деле, без технологий не бывает и ничего другого. Например, военной мощи. И мне хотелось бы, чтобы наука в России была более почитаемой и финансируемой.
Второе — это общая система образования, которая сегодня находится в существенно менее развитом состоянии, чем была в последние годы существования советского союза. Государство начало двигаться в этом направлении, но пока несколько фрагментировано.
И третья вещь — чтобы российское государство все-таки повернулось в сторону технологического бизнеса и начало говорить «технологии, модернизация — это здорово». У государства в любой стране самая большая машина пропаганды. Это нормально. И в России сейчас такой пропаганды науки и технологического предпринимательства я не вижу. То есть она есть, но такая: «это все вроде неплохо, давайте, ребята, занимайтесь». Пропаганда создает кадры — кадры, которые хотят идти и учиться в школу, в университет; кадры, которые хотят стать, может быть, нобелевскими лауреатами.
— Технологические истории успеха, которые вдохновляют российских предпринимателей — все ли они западные? Или существуют российские истории успеха, которые вдохновляют не меньше, чем история Стива Джобса?
— Я считаю, что нет границ для денег, талантов и идей. Поэтому технологические стартапы обязательно должны быть глобальными. И поэтому они в принципе не могут быть чисто российскими.
Российский рынок — он достаточно большой, но он, все-таки на десятом, девятом или восьмом месте в мире по потреблению IT-технологий. Фокусироваться только на российском рынке невозможно, и это видно даже по тому, что сейчас делают «Яндекс» и Mail.ru, которые пытается выйти на весь мир. Потому что долгосрочно удерживать свою позицию на одном таком рынке невозможно. А по мере того, как ты выходишь на какие-то другие рынки, ты становишься уже не чисто российским.
Но, наверное, пока таких историй, как Стив Джобс, все-таки, нет даже близко. Я думаю, что даже масштабы отличаются в десятки раз. Думаю, что они будут через десять лет. Есть две компании, и это, опять-таки, «Яндекс» и Mail.ru. Обе эти истории вызывают уважение. Но «не сотвори себе кумира»: думаю, что любому технологическому предпринимателю нужно смотреть на другие истории успеха и пытаться делать свою — по-другому и лучше.
— Стоит ли учитывать не только успешных, но и подбитых?
— Обязательно стоит учитывать ошибки, это совершенно нормально. Невозможно создавать ничего нового без того, чтобы совершать ошибки — и в бизнесе, и в продуктах. И это основное, почему бизнес — это вещь неприятная: потому что приходится все время совершать ошибки. И ошибок бывает очень много, про них так быстро нельзя рассказать — они широко описаны в разных местах. Нужно только все время помнить, что невозможно ничего дословно повторять, все равно оно будет немного по-другому.
— Как бы вы сами резюмировали разговор о двадцатилетней истории Рунета или, если удобнее, истории информационных технологий в России?
— Думаю, что очень важно как раз то, что эта граница между Рунетом, интернетом, информационными технологиями, технологиями вообще — она является очень условной. Когда Рунет только появился, граница еще существовала, а сейчас она полностью стерлась. Мне кажется, что сейчас надо заниматься технологическим предпринимательством. Все богатства на Земле уже поделены, и единственное, как можно спасти мир — это создавая новые знания, которые потом превращать в инновации, в технологии и, в конечном счете, в продукты. И если в этой области достичь больших успехов, у человечества будет достаточное количество территории. Иначе все друг с другом будут драться.
Игорь Санин Источник: chaskor.ru
Рекомендовано к прочтению
- Красные пятна: как справиться с куперозом
- One UI 8 принесёт функцию резюмирования видео с любого сайта благодаря ИИ
- Ubisoft обновила Far Cry 4: теперь 60 FPS на PlayStation 5 и Xbox Series без костылей
- Фурор ролевых игр: Oblivion Remastered и Expedition 33 возглавили чарты Steam
- OnePlus возвращает прежнюю цену на Watch 3 в США — минус $150 после отмены пошлин