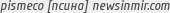Помогут ли Кавказу санкции?
Власти надеются на промышленный прорыв Северного Кавказа. Осуществимы ли их планы?
На прошлой неделе глава правительства РФ Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что Северный Кавказ станет одной из площадок для организации импортозамещения в российской промышленности. Этот вопрос, как предполагают многие, остро встанет в случае дальнейших экономических санкций США и Евросоюза против России. То есть можно сказать, что федеральная власть рассчитывает увидеть промышленный рывок Северного Кавказа в случае ужесточения санкций.
Экономисты уже отметили, что для этого придется не только активизировать работу имеющихся предприятий, но и строить новые. Поэтому, если центр серьезно рассматривает эти перспективы Северного Кавказа, речь должна идти, по сути, о «новой индустриализации»» этого региона. Но насколько она реальна?
Есть основания думать, что те особенности северокавказских республик, которые, как считается, дают им преимущества, на самом деле таят в себе серьезные проблемы.
«Демографический бонус»
Когда чиновники говорят об экономических преимуществах Северного Кавказа, они, как правило, имеют в виду в первую очередь демографию. Собственно, слова о том, что с трудовыми ресурсами на Кавказе все хорошо, прозвучали на высоком уровнеи сейчас.
Большое предложение и, следовательно, дешевизна рабочей силы – это, конечно, удобно для запуска новых заводов и фабрик. Но на самом деле в северокавказских регионах не все с этим просто.
Действительно, Северный Кавказ, взятый в совокупности, отличается от большинства других регионов России высокой рождаемостью, более значительнымежегодным приростом населения. Но, во-первых, ситуация очень разнится от региона к региону. Западный и центральный Кавказ – Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия – уже к моменту распада СССР вышли на тот уровень рождаемости, который обеспечивает только воспроизводство населения, но не рост.
В Дагестане, наиболее крупном по численности жителей регионе, снижение рождаемости шло медленнее. На уровень простого воспроизводства эта республика вышла на самом рубеже 20 и 21 веков. Поколение дагестанцев, после которого рождаемость стала убывать, сейчас находится в возрасте 20-29 лет. В поколениях, которые вслед за ним готовятся войти во взрослую жизнь, избытка рабочих рук уже нет. То есть ни о каком «демографическом бонусе» для экономики на десятилетия вперед говорить не приходится.
Кроме того, в случае с Дагестаном неочевидно, что нынешнее «трудоизбыточное» поколение с большой готовностью пойдет на крупные предприятия, если даже таковые создадут в регионе.
Приведу лишь одно наблюдение. В городе Дагестанские Огни, расположенном близ Дербента, есть стекольный завод (вокруг которого город в 1920-е годы и возник). В постсоветское время завод сократил производство, но выжил, и там по-прежнему трудится почти тысяча человек – для города с тридцатитысячным населением немало. Местные жители отмечают, что молодые горожане, привыкшие зарабатывать физическим трудом, еще несколько лет назад почти все работали на стройках в других регионах, но в последние годы стали охотнее оставаться дома. Только работать они пошли в основном не на завод, а в многочисленные мастерские по производству стройматериалов, расположенные в Дагогнях вдоль федеральной трассы.
Позволю себе предположить, что причина не столько в разнице заработков (она не такуж велика), сколько в привычках: молодому дагестанцу, успевшему поработать в строительных бригадах по России, комфортнее в малом коллективе, чем в заводском цеху. Эта привычка, видимо, даже перевешивает по-прежнему часто декларируемоежителями региона предпочтение работать в «официальных» структурах, каковыми считаются госучреждения и заводы. Не состоящие в них часто даже называют себя «безработными», при полной занятости и приличных доходах в других секторах. Но оставаться такими «безработными» для многих, как выясняется, привлекательнее. А значит, чтобы обеспечить поток желающих идти на новые предприятия, зарплату там надо будет сделатьзаметно выше, чем в «частном секторе». И что тогда останется от «демографического бонуса»?
Ловушка территорий
Еще одно распространенное представление о преимуществах размещения крупных предприятий на Кавказе состоит в том, что земля под строительство там якобы обойдется дешевле. Однако это заблуждение.
Начнем с того, что в зонах интенсивной частной застройки земля дорожает. А именно к таким зонам относятся земли вблизи крупных городов и трасс, где, вероятнее всего, и захотят размещать новые предприятия (чтобы не приходилось создавать слишком много новой инфраструктуры). Даже в малых городах Дагестана четыре сотки возле магистрали могут стоить больше полумиллиона рублей.
Понятно, что землю под крупные предприятия будут выделять с использованием схем, позволяющих избежать выплат по рыночной стоимости. Но здесь возникает другая опасность: реакция местного населения.
О том, сколько проектов на Северном Кавказе столкнулось с протестами местных жителей из-за потерь «исторически своей» земли, хорошо известно. Можно вспомнить и проектируемые курорты в Кабардино-Балкарии, и знаменитую «Немецкую деревню» близ Махачкалы.
Помимо желания в какой-то форме получать земельную ренту с предприятий, местные жители не раз высказывали опасения, что на новые заводы завезут работников из других районов. Об этом напрямую говорили, например, протестующие против строительства сахарного завода в Ногайском районе Дагестана. Этнический баланс на равнине, особенно дагестанской, – сфера весьма чувствительная: в 20 веке там уже было немало массированных переселений, и многие «узлы», которые из-за них завязались, до сих пор не развязаны.
Есть и другая сложность: значительное количество земель на равнине – тех самых, на которых в первую очередь и будут проектировать новые предприятия – имеет юридический статус, с которым не согласны многие жители. Взять хотя бы хорошо известные земли отгонного животноводства (в избытке имеются в Дагестане, должны появиться в ближайшее время и в Кабардино-Балкарии). По республиканским законам, ими распоряжаются региональные правительства, но, например, в Дагестанеэто не нравится ни переселенцам с гор, которые живут на этих землях, ни уроженцам равнины, которые обитают по соседству. Легко предположить, что при попытках передать такие земли под какой-нибудь промышленный объект эти недовольства будут заявлены еще громче.
Кто виноват и что делать
Как раз «территориальные» проблемы, тормозящие промышленность Северного Кавказа, на мой взгляд, ясно показывают не столько на то, кто виноват, сколько на то, что делать. Никакой хитро вычерченный экономический план, учитывающий внешнюю конъюнктуру, политическую динамику и что угодно другое, не сработает в северокавказских регионах, пока там не созданы условия для разрешения внутренних конфликтов. Главное условие – диалог по спорным вопросам, в том числе земельным, который вовлек бы реальных лидеров и был бы востребован государством.
Ждать от диалога быстрых результатов – «к санкциям» или к какому-нибудь более радостному событию – не приходится. Но без такого шага все ожидания экономического или какого угодно другого чуда на Северном Кавказе абсолютно нереалистичны.
Константин Казенин Источник: kavpolit.com
Рекомендовано к прочтению
- Красные пятна: как справиться с куперозом
- One UI 8 принесёт функцию резюмирования видео с любого сайта благодаря ИИ
- Ubisoft обновила Far Cry 4: теперь 60 FPS на PlayStation 5 и Xbox Series без костылей
- Фурор ролевых игр: Oblivion Remastered и Expedition 33 возглавили чарты Steam
- OnePlus возвращает прежнюю цену на Watch 3 в США — минус $150 после отмены пошлин